Среди особенностей любой пьесы существенное место занимает ее жанровая природа. Жанр пьесы должен найти свое отражение в жанре спектакля и, прежде всего, в манере актерской игры.
Но что же такое жанр?
Жанром мы называем совокупность таких особенностей произведения, которые определяются эмоциональным отношением художника к объекту изображения.
Если явления жизни, которые изображает художник, вызывают в нем ужас и сострадание, рождается трагедия; если они вызывают в нем негодование и смех - он пишет сатирическую комедию; если художник гомерически хохочет над тем, что он показывает, он создает буффонаду; если он ласково смеется, он творит водевиль.
Но не всегда отношение художника к изображаемой действительности бывает резко окрашено одним каким-нибудь чувством. Это происходит только в тех случаях, когда изображаемые явления жизни просты и неподвижны. Если же они сложны, многопланны и непрерывно видоизменяются, то и жанр произведения оказывается не простым, а сложным. Бывает, что герой в начале пьесы вызывает ужас и отвращение, потом насмешку, потом сострадание, потом ласковый смех, потом нежное сочувствие, потом за него становится больно и обидно, потом он заставляет нас хохотать и, наконец, вызывает слезы умиления и радости. Какой жанр может вместить такое богатство сменяющих друг друга различных отношений художника к непрестанно движущемуся, непрерывно видоизменяющемуся объекту изображения? А если еще при этом в пределах одного спектакля показаны столь разнообразные явления и образы, что нет абсолютно никакой возможности установить к ним одно общее, одинаковое отношение? Если один смешон, другой трогателен, третий вызывает наше негодование... как тут быть?
Ясно, что произведение искусства, стремящееся возможно более точно и полно отразить жизнь в ее сложности, в ее движении и развитии, не может претендовать на жанровую чистоту. Его жанровая характеристика неизбежно становится столь же сложной, как и сама жизнь. Правда, большей частью в этом сложном комплексе отношений можно прощупать основное, доминирующее отношение. Тогда мы говорим: такой-то жанр в данном произведении является преобладающим, и в соответствии с этим строим спектакль.
Многие советские пьесы построены именно по этому принципу. И характерно, что, за немногим исключением, наибольший успех у зрителей падает именно на пьесы, которые не отличаются жанровой чистотой. Они-то в большинстве случаев и являются наиболее значительными произведениями советской драматургии.
Многие критики и искусствоведы, находясь в плену исторически сложившихся драматургических традиций и канонов, осуждают советскую драматургию за ее якобы неспособность создавать произведения определенных жанров. «То ли дело классика! - восклицают они. - Там комедия так комедия, драма так драма, трагедия так трагедия! У нас же большей частью нечто расплывчатое и неопределенное: «пьеса»! Или, как у Горького: «сцены»!».
С таким решением вопроса нельзя согласиться. Мы думаем, что проблему жанров советские драматурги решают в своей творческой практике, двигая искусство драматургии вперед, тогда как любители «чистых» жанров тянут его назад.
История искусства свидетельствует о постоянном стремлении передовых деятелей искусства ко все большему приближению к жизни.
Огромных успехов на этом пути достигли великие реалисты прошлого столетия. Критический реализм Бальзака и Льва Толстого, Гоголя и Островского, Мопассана и Чехова казался вершиной возможных достижений в области реалистического искусства.
Однако искусство социалистического реализма выдвинуло задачу еще более глубокого, более полного и разностороннего отражения жизни в ее прогрессивном революционном развитии. От художника потребовалось умение раскрывать законы жизни, показывать каждое явление в его обусловленности закономерными процессами общественного развития, в сегодняшнем дне видеть и раскрывать завтрашний и таким образом заглядывать в будущее.
Но едва ли художник, который захочет отразить жизнь во всем богатстве ее противоречий, во всем многообразии ее красок и проявлений, сможет втиснуть ее в узкие границы «чистого» жанра, уложить на прокрустово ложе условных эстетических канонов. Только ломая омертвевшие каноны и преодолевая устаревшие традиции, можно достигнуть максимального приближения к жизни, в которой смешное переплетается с серьезным, низменное с возвышенным, ужасное с трогательным, ничтожное с великим и потрясающим.
Ошибочно думать, что содержание искусству дает жизнь, а форма диктуется имманентными, из природы самого искусства проистекающими законами. Это пагубное заблуждение! Все элементы художественной формы вместе с содержанием даются жизнью и эволюционируют вместе с ней. Старое представление о сюжете, о драматической интриге, о сценическом действии и т. п. ломается, потому что жизнь поставляет такие сюжеты и драматические конфликты, о возможности которых раньше никто не подозревал.
Важно при этом отметить, что социалистический реализм корнями своими уходит в великолепное прошлое русского национального искусства, которое никогда не связывало себя внешними формальными условностями и эстетическими канонами.
Не случайно Пушкин в качестве образца, заслуживающего подражания, объявил именно Шекспира, умевшего в пределах одной пьесы сочетать «высокое» и «низкое», смешное и трагичное. Или вспомним, например, Чехова. Большую часть своих пьес он с удивительной настойчивостью, не желая слушать никаких возражений, называл комедиями. Но сколько в этих «комедиях» лирики, грусти, печали, а подчас и самых трагических нот! Или, например, пьесы Горького. Какое в них сложное сплетение жанров, как часто здесь смешное переходит в трагическое и наоборот!
Или возьмем, например, водевиль. Выступая в этом жанре, многие знаменитые русские актеры не испытывали полного удовлетворения, если им не удавалось вместе со смехом вызвать и слезы на глазах зрителя. Это своеобразная черта именно русского национального театра. Заставить зрителя смеяться в трагедии и плакать в водевиле - это драгоценная способность русского актера и русской драматургии. Меньше всего им свойственна чистота жанра, столь характерная, например, для французского театра.
Но каким бы ни был жанр пьесы - простым или сложным, - режиссер обязан реализовать в спектакле все ее жанровые особенности. А для этого он сам должен глубоко и искренне пережить все отношения, все чувства автора к предмету изображения: его любовь и ненависть, его боль и презрение, его восторг и нежность, его гнев и негодование, его насмешку и печаль.
Форма призвана выражать содержание и, следовательно, определяется богатством и всеми особенностями содержания, но складывается она всегда под воздействием эмоционального отношения художника к объекту изображения. А это отношение, уже было сказано, определяет жанр произведения.
Только глубоко и страстно переживаемое режиссером отношение к изображаемому способно обеспечить остроту, яркость и выразительность формы. Равнодушное отношение к жизни рождает или бледную, жалкую натуралистическую форму внешнего подражания жизни, или формалистическое кривлянье и всевозможные выверты.
Глубоко переживаемое режиссером отношение к гону, что отразилось в данной пьесе, непременно подскажет или даже продиктует ему необходимые в данном случае приемы внешней выразительности и нужные сценические краски, а они в своей совокупности и определят жанровое лицо спектакля.
Впрочем, нужно заметить, что не всегда отношение режиссера к изображаемому полностью совпадает с отношением автора. С таким различием мы сталкиваемся главным образом при постановке классических и зарубежных пьес, то есть в тех случаях, когда налицо известное различие в мировоззрениях автора и театра (то есть режиссера). Жанровая природа пьесы и спектакля в этих случаях частично может и не совпадать. Однако это несовпадение законно только в тех случаях, когда в его основе лежит различие лишь в оттенках тех чувств, которые вызывает изображаемая действительность у автора и у театра (то есть у режиссера). Если же оно является коренным - если, попросту говоря, режиссера радует то, что автора огорчает, и наоборот, - то данную пьесу данному режиссеру вовсе не следует ставить.
Вдумываясь в проблему связи между содержанием и формой спектакля, нельзя не прийти к заключению, что есть только один по-настоящему надежный способ искать наилучшую, неповторимую, единственную форму сценического воплощения, которая с предельной полнотой и точностью выражала бы содержание пьесы. Этот способ состоит в том, чтобы идею всей пьесы, а также мысль, вложенную в каждую сцену, в каждый кусок и фразу авторского текста, - а вместе с этой мыслью и рожденное ею эмоциональное отношение режиссера к данному факту, событию, действующему лицу, - доводить в своем сознании и в своем сердце до степени ослепительной ясности и абсолютной точности.
Искомое решение формы спектакля всегда лежит глубоко на дне содержания. Чтобы его найти, нужно нырнуть до самого дна - плавая на поверхности, ничего не обнаружишь! Чтобы ответить на вопрос «как?», то есть решить формальную задачу, необходимо предварительно ответить на два вопроса: «что?» и «для чего?» Что я хочу сказать данным спектаклем (идея) и для чего мне это необходимо (сверхзадача), - дайте ясный, четкий и до конца искренний ответ на эти два вопроса, и тогда, естественно, разрешится третий: как?
Но при этом нужно помнить: расплывчатое, приблизительно найденное содержание рождает неточную расплывчатую и маловыразительную форму. Когда же содержание - идея, мысль и чувство - доведено в сознании художника до такой ясности, что оно пламенем заключенной в нем истины обжигает его душу, потрясает все его существо, тогда - и только тогда! - наступает желанный творческий акт: эмоционально переживаемая идея находит для себя в творческой фантазии художника наглядное, конкретно-образное, чувственное выражение. Так рождается творческий замысел спектакля, так возникает сценическое решение той или иной сцены, так находится каждая режиссерская краска. Только рожденная, а не надуманная форма оказывается по-настоящему новой и оригинальной, единственной и неповторимой. Форма не может быть привнесена извне, со стороны. Она должна вылиться из самого содержания. Нужно только, чтобы руки художника были послушными, чтобы они легко и свободно подчинялись внутреннему импульсу, то есть голосу содержания живущего в душе художника. Именно в этом послушании, в этой податливости хорошо натренированных рук художника, преобразующих материал по воле внутреннего импульса, и заключается техническое мастерство всякого художника, в том числе и режиссера.
Ошибочными являются попытки создавать форму на основе театрально-исторических реминисценций, путем реставрации или хотя бы даже реконструкции ранее существовавших театральных форм и приемов. Новое содержание требует новых форм, Поэтому каждый спектакль приходится решать заново. Историю театра нужно изучать не для того, чтобы потом использовать отдельные приемы сценической выразительности, свойственные театру той или иной эпохи. Эти приемы хороши были в свое время и на своем месте. Изучать историю театра нужно для того, чтобы полученные знания перебродили, переработались в сознании и, превратившись в перегной, сделали плодоносной почву, на которой будут произрастать новые цветы. Не механическое заимствование исторических форм и приемов, а органическое овладение всем богатством театральной культуры прошлого и непрестанное созидание на этой основе новых форм и приемов сценической выразительности - таков путь дальнейшего развития советского театрального искусства. Необычайная, беспрецедентная в истории человечества жизнь нашей страны непрестанно рождает новое содержание. Дайте этому содержанию развиться в вашем сознании, и оно натолкнет вас на ту новую форму, при помощи которой вы, опираясь на театральный опыт прошлого, выразите это содержание с предельной полнотой и яркостью.
Новаторство и мода в режиссерском искусстве
Стремление к новому является естественным для каждого истинного художника. Художник, не обладающий чувством нового, едва ли сможет создать что-либо значительное в искусстве. Важно только, чтобы стремление к новаторству не превратилось в дешевое оригинальничанье, в формалистическое кривлянье и трюкачество. А для этого художник должен отчетливо сознавать цель своих творческих поисков.
Единственной же целью, способной оплодотворить естественное стремление художника к новому, является отыскание средств ко все большему приближению искусства к жизни.
В самой природе реалистического искусства заключено постоянное стремление сделаться, так сказать, еще реалистичнее, то есть правдивее и глубже. В движении по этому пути и заключается прогресс в искусстве. Неправильно представлять себе, что этот процесс протекает без срывов, падений, подъемов и отступлений. Однако направление движения остается все же неизменным.
Говоря о новаторстве в искусстве, часто имеют в виду только внешнюю форму произведения. Между тем подлинное новаторство находит свое выражение во внешней форме только в самом конце творческого процесса. Начинать же искать новое художник должен прежде всего в самой жизни. Чтобы произведение искусства не воспринималось как нечто скучное, неинтересное, необходимо, чтобы именно в его содержании было что-то новое, дотоле неизвестное людям. Этим новым может быть предмет изображения или какая-нибудь сторона этого предмета; если сам предмет старый, хорошо знакомый, то новым может оказаться отношение художника к предмету, его мысль об этом предмете, его точка зрения на него или же его чувство по отношению к нему. Но если во всем этом нет решительно ничего нового, если содержание своего произведения художник нашел в готовом виде в прочно установившихся в данном обществе взглядах, если то, о чем он говорит в своем произведении, заранее всем известно, хорошо всеми понято, пережито и прочувствовано, едва ли такое произведение получит широкое признание и вряд ли его спасут даже самые остроумные изобретения в области формы.
Есть, впрочем, еще одно требование, которому должно удовлетворять полноценное художественное произведение. Нужно, чтобы его содержание заключало в себе не только нечто новое, но чтобы это новое было в то же время существенным для жизни общества. Вспомним слова Н.Г. Чернышевского о том, что предметом искусства должно быть «общеинтересное в жизни». Это требование тоже нередко нарушается.
В последнее время у наших режиссеров появилась тенденция искать материал для новых форм в прошлом советского театра. Особенно часто с этой целью вспоминают 20-е годы, когда наряду с новым, подлинно народным, социалистическим театром возникло немало всякого рода модных течений, ложных теорий, театриков, студий и спектаклей, которые формалистическое кривлянье выдавали за новаторство. Разумеется, иногда полезно оглядываться назад, чтобы проверить, не позабыли ли мы в нашем прошлом что-нибудь такое, что может пригодиться нам в дальнейшем пути. Но при этом следует помнить, что двигаться надо всегда вперед, и только вперед!
В поисках новых форм можно и даже должно искать материал как в прошлом русского и советского искусства, так и в прогрессивных достижениях современного зарубежного театра. Но не надо терять голову. Самая большая опасность для художника - стать рабом моды. А если принять во внимание, что на Западе мода большей частью связана с чуждым нам буржуазным мировоззрением, то станет понятным и политическое значение этой опасности.
Ставя на советской сцене прогрессивные произведения современных писателей буржуазного Запада, не нужно забывать, что их прогрессивность часто носит весьма относительный характер и что их идейную основу нередко составляет тот абстрактный, внеклассовый, беспартийный гуманизм, основным пороком которого является благодушно-снисходительное отношение к носителям социального зла, их моральное оправдание по принципу - все мы, мол, люди, все человеки, и у всех есть свои недостатки.
А еще хуже, когда социально значительная тема и дорогая для советского зрителя идея эксплуатируются для демонстрации всевозможных атрибутов «красивой жизни»: костюмов, сшитых по последнему слову европейской моды, полуодетых, почти совсем раздетых или раздевающихся на глазах зрителей молодых актрис (так называемый «стриптиз»), остроумных и обаятельных хулиганов и всякого рода развлекательных сцен в плане кабацкой лирики и самой изысканной импортной эротики, а проще сказать - полупохабщины. Все это делается, конечно, под прикрытием благородной задачи разоблачения морально разлагающегося буржуазного общества (в исторических пьесах - белогвардейщины, купечества и т.п.). Однако идейно-воспитательный эффект такого рода «разоблачений», естественно, оказывается противоположным тому, какой декларируют создатели подобных спектаклей.
О правдоподобии, условности и мастерстве
В поисках режиссерского решения спектакля очень важно бывает установить нужное для данного спектакля соотношение между элементами правдоподобия и сценической условности.
Сейчас очень часто новаторство в режиссерском искусстве отождествляют с максимальным количеством условных элементов на сцене. Считают, что чем условнее, тем лучше, чем больше условных приемов, тем больше оснований признать режиссера новатором. Возможно, что это естественная реакция после хотя и кратковременного, но довольно-таки унылого периода в истории советского театра, когда всякая театральная условность объявлялась формализмом и считалось, что чем меньше условного на сцене, тем больше оснований признать режиссера ортодоксальным сторонником реализма.
Разумеется, и то и другое неверно. Мера условности определяется всякий раз режиссерским решением спектакля в соответствии с задачей: создать целостный образ, который с наибольшей полнотой и силой донес бы драгоценное содержание пьесы до ума и сердца сегодняшнего зрителя.
С этой точки зрения совершенно одинаковое право на существование имеют у нас, на советской сцене, решительно все приемы, если они выполняют свою основную задачу: образно раскрывают содержание.
Цель искусства - глубокая правда жизни. Внешнее правдоподобие - это еще не есть правда жизни, не есть ее сущность. Внешнее правдоподобие - это лишь средство раскрытия правды, а не сама правда. Когда в правдоподобии видят цель искусства, рождается искусство примитивного натурализма, то есть, по сути дела, не искусство.
Вторым средством раскрытия правды служит художественная условность. Когда условность рассматривается как самоцель и противопоставляется правдоподобию как основополагающий принцип искусства, создается искусство формалистическое, то есть, по сути дела, тоже не искусство. Единство правдоподобия и условности, имеющее своей целью раскрытие глубокой правды жизни, создает искусство настоящее, большое, подлинно реалистическое.
Безусловным, подлинным в театре (во всех без исключения спектаклях) должно быть одно: действия и переживания актеров в предлагаемых обстоятельствах.
Нужно помнить, что сценическая условность - это только прием, а всякий прием хорош, когда он не замечается. Поэтому дурно, если условность выпирает в спектакле, ошарашивает зрителя или хотя бы обращает на себя его особое внимание. Зритель должен воспринимать не приемы, не форму, а через приемы и форму - содержание и, воспринимая его, вовсе не должен замечать тех средств, которые это содержание доносят до его сознания. Так воспринимаются все великие произведения искусства. Их приемы и формы мы анализируем уже потом, после того, как мы восприняли содержание. Только пережив духовное потрясение, связанное с содержанием, мы задаем себе вопрос: каким же образом художник достиг такого великолепного результата? И чтобы разгадать эту загадку, мы вновь и вновь обращаемся к самому произведению.
Когда мы стоим перед «Сикстинской мадонной» Рафаэля, сердце наше переполняется благодарностью к художнику, который так совершенно воплотил на своем полотне идеал любви, материнства, женственности, человечности. И только очень дотошный зритель-специалист, и то лишь вдоволь насладившись картиной, начнет разбирать ее по деталям и увидит условности (вроде, например, зеленых занавесок на кольцах, нанизанных на палку, укрепленную прямо на небесах), которые оказались необходимыми Рафаэлю для создания нужного впечатления.
Без театральной условности нет и самого театра. Как можно поставить, например, трагедию Шекспира или «Бориса Годунова» Пушкина с их множеством картин, лиц и мгновенных переходов из одного места действия в другое, не прибегая к условным средствам сценической выразительности? Вспомним восклицание Пушкина: «...какое, к черту, может быть правдоподобие в зале, разделенной на две половины, в одной из коих помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на подмостках...».
«Правдоподобие положений и правдивость диалога - вот истинное правило трагедии», - утверждал Пушкин, - а вовсе не та жалкая правденка, которая рождается в результате внешнего точного подражания жизни.
О мастерстве художника удивительно хорошо сказал Лев Толстой: «...нужно, чтобы художник овладел своим мастерством так, чтобы, работая, так же мало думал о правилах этого мастерства, как мало думает человек о правилах механики, когда ходит. А чтобы достигнуть этого, художник никогда не должен оглядываться на свою работу, любоваться ею, не должен ставить мастерство своей целью, как не должен человек идущий думать о своей походке и любоваться ею»3.
А мы нередко не только оглядываемся и любуемся своим подчас даже вовсе не таким уж и высоким мастерством, но еще призываем к тому же и зрителя, поминутно напоминаем ему: смотри, какой прием, какой фокус, какой удивительный выверт!
Нужно всегда помнить: источник подлинного новаторства в искусстве - жизнь. Двигать искусство вперед способен только тот художник, который живет одной жизнью со своим народом, не отрывается от него.
Елена РОМАНИЧЕВА,
Москва
"Не зубрить малое, а понимать многое", или Готовим выпускников к анализу произведения малой формы
"В седьмой теме (анализ идейно-художественного своеобразия произведения малой формы XIX или XX века) ученику будет предложено проанализировать небольшое произведение, необязательно современного автора, которое должно быть рассмотрено с точки зрения особенностей его содержания и формы" - так прокомментирована одна из тем будущего экзаменационного сочинения. А дальше идёт список возможных писательских имён, насчитывающий 20 персоналий. Если прибавить к этому, что "отбор материала для экзамена будет производиться на базе «Обязательного минимума содержания образования» с учётом принципа вариативности, нашедшего отражение в этом документе", то количество текстов, которые могут быть предложены выпускникам, можно исчислять уже не одним десятком. Разумеется, ни один, даже самый квалифицированный учитель, даже в очень сильном классе, "проработать" всё будет просто не в состоянии. А если так, значит, надо сосредоточить усилия не на конкретных писательских именах или текстах, а на алгоритме анализа, постигнув который ученики справятся с предложенной темой. Именно об этом говорил ещё на исходе 40-х годов XX века один из известнейших отечественных литературоведов Г.А. Гуковский, чьи слова взяты нами в качестве заголовка.
Алгоритм анализа произведения во многом обусловлен его жанровой природой. Ведь жанр - это, по образному выражению другого известного методиста Н.Д. Молдавской, те первые "ворота", через которые читатель входит в художественный мир произведения, жанр во многом организует его читательское восприятие. Это с одной стороны. С другой - жанр, и только жанр, объединяет в себе все компоненты художественного произведения: композицию, образную систему, сюжетные линии, язык и стиль. Жанр выступает своеобразным "посредником" между действительностью, изображённой автором, и читателем, задача которого не только увидеть картину жизни, воплощённую на страницах художественного текста, но и в изображаемом увидеть изобразителя, то есть постичь художественную концепцию автора, его мироощущение, отношение к событиям.
На экзамен, как опять же явствует из пояснений к теме, могут быть вынесены произведения, относящиеся к жанрам рассказа, повести, сказки, баллады и поэмы. Не ставя своей целью "объять необъятное", покажем, как может строиться работа над анализом рассказа.
Познакомим наших учеников с определением, данным этому жанру Сомерсетом Моэмом: "Рассказ - произведение, которое читается в зависимости от его длины от десяти минут до часа и имеет дело с единственным, хорошо определённым предметом, случаем или цепью случаев, представляющих собой нечто цельное. Рассказ должен быть написан так, чтобы невозможно было ничего ни добавить, ни убавить". Заметим, однако, что в современной науке до сих пор нет единого мнения о том, что такое рассказ, и что ведутся споры о том, попадают ли в эту жанровую разновидность очерк и новелла или же это самостоятельные жанровые формы. Да и писатели, создавая свои произведения, тоже, что называется, подливают масла в огонь: так, А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» назвал рассказом, в очередной раз спутав достаточно привычные и устоявшиеся представления об этом жанре. Безусловно, учитель может выбрать любое из существующих мнений, но нам кажется методически более оправданной точка зрения Г.Н. Поспелова, который трактует рассказ как малую эпическую жанровую форму - небольшое по объёму изображённых явлений жизни, а отсюда - и по объёму текста прозаическое произведение. Развивая свою мысль, учёный пишет, что "правильнее было бы понимать рассказ как малую прозаическую форму вообще и различать среди рассказов произведения очеркового (описательно-повествовательного) типа и новеллистического (конфликтно-повествовательного) типа. Очеркового типа рассказы обычно включают «нравоописательное» содержание, раскрывают нравственно-бытовое и нравственно-гражданское состояние какой-то социальной среды, иногда всего общества. В основе рассказа новеллистического типа обычно случай, раскрывающий становление характера главного героя" («Литературный энциклопедический словарь»). Обсуждая вместе с учениками предложенное определение, выясним, что в конечном счёте анализ рассказа может быть построен вокруг своеобразной триады жанр-сюжет-герой. К сказанному добавим, что всякий рассказ кем-то... рассказан и что выбор между повествованием от первого лица или от третьего - первый шаг любого автора, а русские писатели к тому же создали целую галерею образов рассказчиков и выработали целый ряд приёмов для создания этого образа. Дальше вполне уместно будет вспомнить и о том, что мы читаем не рассказы вообще, а рассказы конкретного писателя и что авторское "я" даже в произведениях одного и того же жанра имеет свои оттенки и способы выражения.
Так, в беседе с А.Б. Гольденвейзером Л.Н. Толстой однажды заметил: "Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразно, то так же - и их форма. Как-то в Париже мы с Тургеневым вернулись домой из театра и говорили об этом, и он совершенно согласился со мной. Мы с ним припоминали всё лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих произведениях форма совершенно оригинальная. Не говоря уже о Пушкине, возьмём «Мёртвые души» Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. Потом - «Записки охотника» - лучшее, что Тургенев написал..." Это высказывание великого писателя в чём-то и обусловило наш выбор материала для повторения.
«Обязательный минимум...» предлагает для изучения четыре рассказа из «Записок охотника»: «Хорь и Калиныч», «Бежин луг», «Бирюк», «Певцы» (по выбору), однако работа с ними идёт в средних классах, так что обращение к этим произведениям при подготовке к экзаменам будет вполне оправдано. Безусловно, их анализ не должен носить исчерпывающего характера, наоборот, работа с ними должна научить учеников выбирать аспект анализа.
«ХОРЬ И КАЛИНЫЧ»
Этот первый рассказ из «Записок охотника», помещённый в первом номере возрождённого журнала «Современник» и имеющий извинительный подзаголовок «Из записок охотника», вызвал читательский интерес, явно не ожидаемый ни самим автором, ни редакцией. Наоборот, составители первого номера, словно стремясь предотвратить негативную реакцию читателей на рассказ, поместили его в раздел «Смесь», а прежде Некрасов, посылая его профессору А.В. Никитенко, даже сопроводил запиской: "Препровождаю небольшой рассказ Тургенева для «Смеси», 1-го № - по крайнему моему разумению, совершенно невинный". Однако для читателей рассказ оказался не просто зарисовкой из "народной жизни". В.Г. Белинский первым почувствовал его новизну: "Не удивительно, что маленькая пьеска «Хорь и Калиныч» имела такой успех: в ней автор зашёл к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто не заходил". Вместе с учениками постараемся разобраться, что означают слова великого критика. На страницах рассказа перед нами предстают два крестьянских характера. "Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как". Итак, перед нами два характера, в которых в какой-то мере отразились социальные процессы, происходившие в деревне, - нарождающийся кулак и крестьянин-бедняк. Однако обратим внимание учеников на слова в начале только что приведённой цитаты: "оба приятеля". Читаем дальше: "Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря". Странная дружба! Но для Тургенева это чувство взаимной симпатии - признак единства. Хорь и Калиныч - две стороны единого национального русского характера, в котором сосуществуют трезвое отношение к жизни и "романтизм", мечтательность, пренебрежение к личному благополучию. Деловитость, предприимчивость - и способность оторваться от земной основы, от материальных благ для более высокой, "идеальной", как тогда говорили, цели. Больше того, это единство гармоничное, это счастливое соединение в русском характере общественного и естественно-природного: "...Калиныч был одарён преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчёлы ему дались, рука у него была лёгкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же - к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь же возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь".
По мнению Тургенева, гармония в национальном русском характере двух сил - материальной и идеальной, социальной и природной - предвещает русскому народу великое историческое будущее. В рассказе есть знаменательные строки: "...из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, - убежденье, что Пётр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях".
Так за сюжетом, взаимоотношениями героев встают вопросы, чрезвычайно волнующие автора, - о человеке и обществе, о народном характере и истории, человеке и государстве, и проявляются они и в особенностях изображения персонажей, и в подробных описаниях обстановки, места действия, биографии действующих лиц. После анализа этих особенностей скажем ученикам, что «Записки охотника», начавшись рассказом о двух человеческих натурах, завершаются рассказом «Лес и степь». Так самой композицией сборника подчёркнута его главная тема: природа и человек.
Природе в «Записках охотника» вообще отведено особое место и особая роль. Она не просто фон, а полноправный участник событий. Природа у Тургенева живёт своей сложной жизнью, и в ней нет умиротворённости. Как в беспокойном человеческом обществе борются силы добра и зла, так и в мире природы идёт противоборство света и тьмы, ясного солнца и угрожающе-таинственной ночи. Такое противоборство стихийных сил природы (а писатель отнюдь не исключал наличия в ней именно стихийного начала) нашло своё блистательное воплощение в пейзажной лирике Ф.И. Тютчева. У Тургенева же отношение к природе несколько иное: с одной стороны, природа для писателя - стихия таинственного и непознанного для человека, с другой, по его же собственному выражению, в ней "нет ничего ухищрённого и мудрёного". С особой полнотой эта концепция нашла своё воплощение на страницах одного из рассказов цикла.
«БЕЖИН ЛУГ»
Предварим анализ рассказа вопросами, которые помогут нам установить уровень постижения произведения и определят направление дальнейшего анализа. Есть ли среди мальчиков из «Бежина луга» герои, которых можно сопоставить с Хорем и Калинычем? Как вы понимаете слова одного из критиков о том, что в этом рассказе Тургенев "заставил говорить землю, прежде чем заговорили дети, и оказалось, что земля и дети говорят одно и то же"?
Собственно же анализ рассказа начнём с осмысления его сюжета, в основе которого лежат вроде бы ничем не примечательные и далеко не драматичные события: рассказчик, охотник, случайно заблудился и был вынужден скоротать ночь вместе с несколькими деревенскими мальчиками на Бежином лугу. Откуда же в таком случае возникает явно ощущаемый драматизм повествования? Ведь даже начинается и заканчивается рассказ описаниями, пронизанными солнцем, основной эмоциональный тон которых - радость, чувство обновления и лёгкости. Но наступает вечер, за ним ночь, и то, что днём было так ясно, становится иным. Картины вечера и наступающей ночи в «Бежином луге» нагнетают чувство беспокойства; происходит таинственная путаница: охотник блуждает в знакомых, исхоженных местах. Ощущение тревоги усиливается повторением эпитетов со значением "странности", неопределёнными местоимениями и наречиями: "как-то жутко", "таинственно кружась", "странно", "какая-то дорожка", "неясно белело", "странное чувство". Однако легко заметить, как в унисон проявляют себя природа и герой. Пиком нарастания таинственности и тревоги становится фраза: "Я всё шёл и уже собирался было прилечь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной". На этом этапе развития событий природа, словно в балладе, вступила в сюжет как бы прямым участником событий. Однако перед нами новый сюжетный поворот: рассказчик, присмотревшись к огням, вдруг заметит людей, и лейтмотивом повествования станет не мрак, а свет: пламя костра, "тонкий язык света", "быстрые отблески огня". А таинственность? Таинственность останется, но из мира ночной природы перейдёт в мир мальчиков, в их рассказы, которые суть не только "сельские верования", не только следствие ночного страха человека перед природой, но тайны самой природы, такой приветливой днём и такой пугающей ночью. И вновь сюжетно и эмоционально соединятся природа и герои. Попросим учеников проиллюстрировать высказанную мысль (пусть прозвучат финалы рассказов Кости о русалках и Ильюши о "нечистом месте"). Обратим внимание на поведение одного из мальчиков - Павла: вот ребятишки после страшного рассказа вздрогнули и... услышали спокойную реплику Павла: "Эх вы, вороны! чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились...", которая перевела внимание с жутковатых историй на реальное, близкое и понятное. Прочитаем ещё два небольших фрагмента и спросим учеников, что их объединяет:
"Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, - налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крыльями.
Знать, от дому отбился, - заметил Павел. - Теперь будет летать, покуда на что наткнётся, и где ткнёт, там и ночует до зари.
А что, Павлуша, - промолвил Костя, - не праведная ли это душа летела на небо, ась?
Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.
Может быть, - проговорил он наконец".
"- А вот Павлуша идёт, - молвил Федя.
Павел подошёл к огню с полным котельчиком в руке.
Что, ребята, - начал он, помолчав, - неладно дело.
А что? - торопливо спросил Костя.
Все так и вздрогнули.
Что ты, что ты? - пролепетал Костя.
Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша... подь сюда». Я отошёл. Однако воды зачерпнул.
Ах ты, Господи! ах ты, Господи! - проговорили мальчики, крестясь.
Ведь это тебя водяной звал, Павел, - прибавил Федя... - А мы только что о нём, о Васе-то, говорили.
Ах, это примета дурная, - с расстановкой проговорил Ильюша.
Ну, ничего, пущай! - произнёс Павел решительно и сел опять, - своей судьбы не минуешь".
Таким образом, мы видим, что даже Павлуша, наиболее смелый, трезвый и ироничный, допускает существование таинственных сил, однако оказывается способным шагнуть за черту привычного, допустимого, безопасного: "Однако воды зачерпнул"; он словно соединяет в себе две стихии: мрака и света, таинственного и познаваемого.
Финал рассказа, казалось бы, напрочь прогоняет ночные страхи - бодрая, светлая, радостная картина восхода солнца: "Не успел я отойти двух вёрст, как... полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света..." Рассказ обрёл свою сюжетную завершённость, но не получил конца. Именно поэтому после изображения картины рассвета автор упоминает о смерти Павла, и это не только мимолётное упоминание о судьбе необыкновенного мальчика, это ещё и напоминание о таинственной силе природы, о том, что жить в единстве с природой можно только уважая её. Один из исследователей творчества Тургенева однажды заметил: "Вопрос о гармонии человека и окружающего его мира природы - главный вопрос, выявляемый самой структурой «Бежина луга»... Композиционное «равновесие» рассказа создаётся равновесием природы и героя... Равновесие это сложное: природа втягивает героя в свой круговорот, но герой неизбежно ей противостоит. Тургенев в «Бежином луге» одушевляет силы природы, вводит их в сюжет драматичным столкновением с героем. Именно потому сообщение о гибели Павла в финале - не случайно оброненные слова, а одна из главных закономерностей построения рассказа. Образ Павла прокладывает дорогу к Базарову. В философской концепции произведения Павел (как позднее Базаров) противостоит миру «неведомого», «тайным силам» природы. Выходя за уровень среднего, стабильного, устойчивого, он является тем новым, за счёт которого осуществляется целостность жизни, или, по выражению Тургенева, «общая гармония», «одна мировая жизнь»" (Л.Н. Душина).
В «Записках охотника», как видим, проявились некоторые особенности творческой манеры Тургенева, которые получат затем развитие в повестях и романах. Это и особое значение пейзажа, играющего активную роль, роль звена, связующего человеческую и природную жизнь. Это и такая особенность Тургенева-художника, как отказ от вторжения в мысли и чувства персонажа. Тургенев применяет в таких случаях приём "скрытого психологизма", то есть даёт возможность догадаться о внутреннем мире, переживаниях человека по внешней детали.
«БИРЮК»
Попробуем найти подтверждение выдвинутого тезиса в этом хрестоматийном рассказе, прочитаем небольшой отрывок.
"Я посмотрел кругом - сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребёнок в люльке дышал тяжело и скоро.
Ты разве одна здесь? - спросил я девочку.
Одна, - произнесла она едва внятно.
Ты лесникова дочь?
Лесникова, - прошептала она.
Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошёл к столу и зажёг светильню.
Чай, не привыкли к лучине? - проговорил он и тряхнул кудрями".
Попросим учеников найти внешние детали, за которыми встаёт образ чрезвычайно одинокого и сильного человека. Только вот в душе этого "молодца", крепкого не только телом, но и чувством правды и праведной жизни, в которой нельзя воровать никогда и никому, идёт поистине трагическое столкновение чувства и долга. "Должность свою справляю", - скажет Бирюк рассказчику, однако чем дальше, тем натужнее это выходит, и оказывается, что герой вовсе не лишён порывов страсти - сочувствия к своим собратьям. Однако сам герой словно пугается его и досадует на себя:
"Э, полноте, барин... не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу, - прибавил он, - знать, дождичка-то вам не переждать...
На дворе застучали колёса мужицкой телеги.
Вишь, поплёлся! - пробормотал он, - да я его!.."
В этом последнем, вдогонку пущенном "да я его!" скрыта вся гамма эмоций человека, разрывающегося между долгом и чувством и понимающего, что его, Бирюка, двусмысленное положение стража барского добра, собственное подневольное положение только усиливает этот конфликт, делает его поистине трагическим. В заключение разговора спросим учеников, какими ещё художественными средствами сумел передать автор это ощущение трагизма, и обратим их внимание и на пейзаж, на фоне которого разворачиваются события, и на портреты героев, и на сюжет и композицию.
«ПЕВЦЫ»
В «Записках охотника» писателя, по его же собственным словам, занимала "трагическая сторона народной жизни", которая с особой силой воплотилась на страницах сборника. Убедиться в справедливости сказанных слов можно, обратившись к рассказу «Певцы». Пейзаж сельца Колотовка, где разворачивается состязание двух певцов, как нельзя более соответствует состоянию души героев. За окном - сельцо, лежащее на скате голого холма, рассечённого страшным оврагом, в Притынном кабачке (именно так первоначально и назывался рассказ) собрался всякий разный люд, всех привело и держит здесь чувство одиночества, изломанности собственной жизни, бесприютности. И всё это стремится преодолеть своей песней Яшка Турок, лучший певец в околотке: "Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль". И эта удивительная песня о разлуке с любушкой-сударушкой раздвинула стены кабака и унесла всех в какой-то удивительный врачующий простор. И перестала существовать и постылая Колотовка, и Притынный кабак, причём перестала существовать для всех: "...жена целовальника плакала, припав грудью к окну... Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку... и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей медленно прокатилась тяжёлая слеза". Но что же в итоге? И можно ли было, "прислушавшись" к совету И.С. Аксакова, "обойтись без последней сцены пьяных в кабаке?" Однако, как ни парадоксально, страшна не только последняя сцена в кабаке, где "всё было пьяно". Прочитаем вместе с учениками финальную сцену рассказа.
"Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» - кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.
Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принёсся едва слышный ответ:
Чего-о-о-о-о?
Иди сюда, чёрт леши-и-и-ий!
Заче-е-е-ем? - ответил тот спустя долгое время.
А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-ит, - поспешно прокричал первый голос.
Познакомим учеников с трактовкой этого эпизода, данной разными исследователями, попросим их объяснить, какая из них точнее интерпретирует авторскую позицию.
В.Чалмаев: "И не остановить эти «взывания»... Со страха они, что ли, звучат или из угодничества, странного желания «пострадать» чужой спиной, «изныть» от чужой боли? Но в них - и тупое рабское постоянство, и радостное озлобление, и привычка «есть друг друга и сытым не бывать»... Чего не рождает нужда и рабские привычки!"
Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год дал своё, любопытнейшее толкование этого эпизода в «Певцах» - вещи для него поистине гениальной. "Антропка - это некий провинившийся шалун, а влюблённо-зовущий его лечь под розги отца потому так неутомим, что или уже наказан сам, или попросту угодник отцу... Сей гениальный возглас к Антропке и - что главное - бессильный, но злобный надрыв его может повториться не только среди провинциальных мальчишек, но и между взрослыми" («Полписьма "одного лица"»).
А.Валагин: "Рассказчик становится слушателем ещё одного впечатляющего, хотя и незримого, музыкального диалога. Спускаясь с холма, он слышит звонкий мальчишеский голос, который многократно («тридцать раз, по крайней мере») призывно выкрикивает имя своего брата Антропки. А так как крик мальчика выразителен и протяжен... и так как звонкий голос далеко разносится «в неподвижном, чутко дремлющем воздухе», то напоминает скорее музыкальную фразу, чем имя. Озвученность огромного пространства подчёркивается ответным музыкальным сигналом: «...с противоположного конца поляны, словно с другого света, принёсся едва слышный ответ: «Чего-о-о-о?». Но этот детский музыкальный дуэт, в отличие от недавнего поединка певцов, находится в полной гармонии с природой и лишён той напряжённости, противоречивости и катастрофичности, которыми полна жизнь взрослых".
В заключение работы над избранными рассказами из «Записок охотника» следует сказать о том энергетическом заряде, который несла книга, говорившая о том, что великий народ, полный сил, неразвернувшихся дарований, находится во власти варварских сил, что крепостничество ведёт к оскудению, примитивности жизни. Масштаб поставленных проблем высоко оценили современники Тургенева, о книге сохранились восторженные отзывы А.И Герцена, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева и многих-многих других. Сам же великий писатель гораздо скромнее оценивал результаты своего труда: "Иные звуки точно верны и не фальшивы - и эти-то звуки спасут всю книгу". Просьбой прокомментировать эти слова и завершим разговор о рассказах Тургенева на уроках повторения. Насколько результативным он был, учитель может убедиться, предложив для самостоятельной интерпретации один из рассказов сборника, не привлекавшийся для анализа на уроках.
Определение жанра
Словарь литературных терминов
ФЭНТЕЗИ (от англ.) - вид фантастической литературы, основанной на необычайном и порой непонятном сюжетном допущении. Это допущение не имеет, как правило, житейских мотиваций в тексте, основываясь на существовании фактов и явлений, не поддающихся рациональному объяснению. В отличие от научной фантастики, в фэнтэзи может быть сколько угодно фантастических допущений (боги, демоны, волшебники, умеющие разговаривать животные и предметы, мифологические и реальные существа, приведения, вампиры и т.п.). События в фэнтэзи происходят в условной реальности, в своеобразном «параллельном» мире, похожем на наш. Современные исследователи предпосылки этого жанра связывают с именами Н.В. Гоголя, О.М. Сомова, В.Ф. Одоевского. В XX столетии эта линия была продолжена Л.Н. Андреевым, А.И. Куприным, В.Я. Брюсовым, А. Грином, М.А. Булгаковым, А.Н. и Б.Н. Стругацкими и др.Словарь иностранных слов русского языка
Фэнтези

(Источник:
"Словарь иностранных слов". Комлев Н.Г., 2006
Википедия - свободная энциклопедия

Произведения фэнтези чаще всего напоминают историко-приключенческий роман, действие которого происходит в вымышленном мире, близком к реальному Средневековью , герои которого сталкиваются со сверхъестественными явлениями и существами. Зачастую фэнтези построено на основе архетипических сюжетов.
Особенности жанра фэнтэзи

Фэнтези - это также жанр кинематографа , живописи , компьютерных и настольных игр.

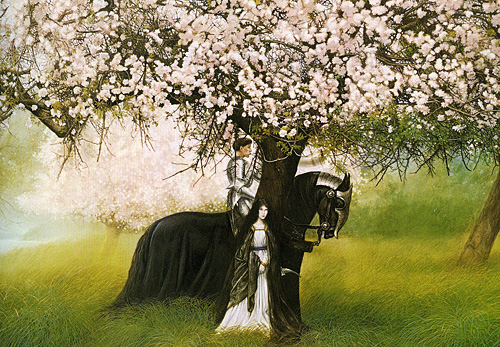
Герой должен выполнить свою миссию, чего бы это ему не стоило, но в тоже время он не столь детерминирован, как персонаж мифологических сказаний и ему предоставляется право выбора, что порождает противоречивые, живые человеческие образы. Герой фэнтези стремиться к свободе и независимости, он желает зависеть только от своих решений, бравого коня и стали в ножнах и эта черта связывает фэнтези с миром рыцарских романов. В этих жанрах главнейшими качествами человека являются честь и мужество. Справедливость же в фэнтези хоть и ценится так же высоко, как в рыцарском романе, но вот только не всегда одерживает победу. Фэнтези действительно собрала в себя громадный пласт европейских литературных традиций и именно своей традиционностью она и сильна сегодня. И фэнтези сохраняет свое очарование только в случае следования традициям. Попытка осовременить ведёт к выходу за пределы жанра и, в результате, мы получаем либо мистику, либо ужасы, но никак не то, что изначально хотели получить.
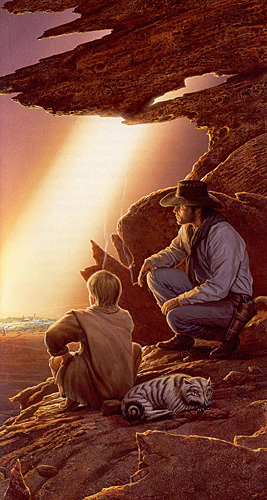
Определение фэнтези можно сформулировать так: это произведение, действие которого происходит в отличном от реального мире с непременным присутствием в нем волшебных, божественных или иных не поддающихся рациональному истолкованию явлений. Однако автор фэнтези не ограничен ни сюжетно, ни тематически. Единственное требование жанра, которое нельзя обойти, - психологическая достоверность.
Краткая история жанра


В России предпосылки фэнтези также стали возникать в начале XX века - и, как и в Англии, они были основаны на модернистском мифотворчестве. Историки литературы полагают, что ближе всех к созданию фэнтези в современном смысле слова подошли Федор Сологуб («Творимая легенда»), Валерий Брюсов («Огненный ангел») и Александр Грин («Блистающий мир», «Бегущая по волнам» и весь цикл о «гринландии» в целом). Однако после того, как советское литературоведение провозглашает доминантными чертами фантастики «научность» и «классовость», элементы волшебного и мистического из отечественной литературы не для детей практически исчезают.
Библиография
- Журнальный зал |
НЛО, 2005 N71 | КСЕНИЯ СТРОЕВА - Фэнтези-2004.
ЖАНРЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ |
|
Повествовательный жанр Басня - небольшое произведение в стихах или прозе с нравоучительным, сатирическим или ироническим содержанием. С помощью образов животных, неодушевленных предметов в басне осуждаются, высмеиваются недостатки, пороки людей. Основная мысль в басне - мораль. Она обычно находится в начале или в конце басни. Сказка - вид устного народного творчества в прозе или в стихах о вымышленных событиях. По содержанию сказки бываю волшебные, бытовые, сатирические, о животных. Рассказ - небольшое художественное произведение, в котором изображается характер героя, одно или несколько событий из его жизни. Статья - небольшое по объему сочинение, в котором излагаются научные сведения, факты, события. Повесть - литературное произведение описательно-повествовательного жанра. |
Стихотворение - небольшое поэтическое произведение в стихотворной форме. Песня - стихотворение, предназначенное для пения. Былина - русская песня, поэма о богатырях и народных героях. |
ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (изобразительные средства, помогающие образно выразить содержание произведения)
- СРАВНЕНИЕ - средство выразительности, когда одни предметы и явления сопоставляются с другими.
- ЭПИТЕТ - художественное определение, дающее яркое, образное представление о сущности предмета или явления.
- МЕТАФОРА - основное средство выразительности, когда одно явление полностью уподоблено другому, чем-то сходному с ним, при этом создается яркая, поэтическая картина.
- ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ - вид метафоры, в которой явления природы уподобляются живым существам, часто людям.
- АЛЛЕГОРИЯ - вид метафоры, где все изображения жизни: сюжет, действующие лица, язык - имеет не прямое, а иносказательное значение (используется в сказках, баснях, где действуют обычно животные).
- АЛЛИТЕРАЦИЯ - повторение в стихах одних и тех же согласных звуков, напоминающих изображаемое явление.
- ЮМОР - добродушный смех.
- ИРОНИЯ - тонкая, скрытая насмешка, когда слова употребляются в обратном, противоположном смысле.
- ГИПЕРБОЛА - чрезмерное увеличение свойств изображенного предмета или явления.
- КОНТРАСТ - противопоставление.
- ЖАНР - устойчивая разновидность художественного произведения.
- ТЕМА ТЕКСТА - ответ на вопрос о чем пишет автор.
- ИДЕЯ ТЕКСТА - главная мысль произведения.
- СТИЛЬ - художественный, научно-публицистический, деловой.
- ВИДЫ ТЕКСТА - повествование, описание, рассуждение.
- КОМПОЗИЦИЯ - построение текста
- ЗАВЯЗКА - событие, с которого начинается действие в художественном произведении.
- КУЛЬМИНАЦИЯ - высшее напряжение действия в художественном произведении.
- РАЗВЯЗКА - исход событий в литературном произведении, решение конфликта.
- РИФМА - созвучие концов стихотворных строк.
- ФОЛЬКЛОР - устное народное творчество (былины, народные песни, сказки, частушки, пословицы, поговорки, загадки)
СХЕМА АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
- Автор и его проблемы, темы.
- Жанр произведения.
- Тема данного произведения.
- Идейная направленность.
- Главные герои, их роль в идейном содержании, поступки и их мотивы.
- Второстепенные персонажи, их связь между собой и главным персонажем.
- Сюжет, его элементы, их роль в раскрытии идеи.
- Композиция, ее компоненты, роль в раскрытии идеи.
- Язык писателя.
- Эстетическая и нравственная ценность произведения с точки зрения воспитания читателем.
ПЛАН АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
- Определи жанровую разновидность произведения.
- Установи тему произведения.
- Определи вид текста: описание, повествование, рассуждение.
- Восстанови сюжет: развязку, кульминацию, рассуждение.
- Раскрой композиционные особенности текста.
- Составь описание художественных образов: портрет, поступки, речь, отношение.
- Проведи анализ авторского стиля (гипербола, контраст, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение)
- Сформулируй выводы (раскрой идею произведения).
ПЛАН РАССКАЗА О ГЕРОЕ
1. Расскажи о понравившемся герое. (Мне очень понравился(ась)... Мне очень запомнился(ась)... Мне показался интересным... Я восхищаюсь... Мне очень не понравился(ась)...)
2. Опиши внешность героя (его лицо, одежду, манеру поведения).
3. Вспомни, в каких поступках, мыслях, действиях лучше всего раскрывается характер героя?
4. Перечисли основные черты характера понравившегося (непонравившегося) героя.
5. Расскажи о его взаимоотношениях с другими персонажами.
6. Назови героев других произведений, которые в чем-то схожи с этим персонажем.
7. Подумай и скажи, в чем тебе самому хотелось (не хотелось) бы походить на этого героя?
8. Вспомни, какая из пословиц, поговорок и крылатых фраз могла бы лучше всего передать характер этого героя?
9. Если бы ты был художником, то в какой момент изобразил бы своего любимого героя, какое бы у него было выражение лица, как бы ты его одел, что было бы вокруг?
ПЛАН РАБОТЫ НАД ЛИРИЧЕСКИМ СТИХОТВОРЕНИЕМ
1. Как ты думаешь, какое настроение было у автора, когда он писал это стихотворение? Какого цвета это стихотворение?
2. Что, по-твоему, послужило толчком для создания этого произведения?
3. Какие строчки показались наиболее образными (как бы ожили перед тобой, стали зримыми, ощутимыми образами)? Какие образы?
4. Какие рифмы показались самыми необычными, новыми, удивительными?
5. Попробуй подобрать несколько синонимов к словам, которые тебе показались новыми, редко встречающимися в современном языке.
6. Перечисли наиболее яркие сравнения в стихотворении. Какова их роль?
7. Какие слова употребляются в переносном выражении?
8. Как ты думаешь, при каких обстоятельствах ты мог бы вспомнить строки этого стихотворения?
9. Какую иллюстрацию ты хотел бы сделать к этому стихотворению?
ПЛАН АНАЛИЗА СКАЗКИ
1. Прочитай сказку. Обрати внимание на то, есть ли у нее автор или она относится к устному народному творчеству.
2. Как ты думаешь: что в этой сказке взято из реальной жизни, а что в ней вымышлено?
3. Что тебя в этой сказке больше увлекло: сюжет (основные события) или описание волшебства? Какие волшебные предметы из этой сказки стали частью нашей реальной жизни? Чего на самом деле никогда не может быть?
5. Назови положительных и отрицательных героев этой сказки, перечисли основные черты их характеров, вспомни самые значительные поступки.
6. Какому герою сказки ты больше всего сопереживал? Опиши, какие чувства ты испытывал вместе с героем.
7. Какими пословицами ты бы мог передать основную мысль этой сказки? В какой фразе сказки выражена ее главная мысль?
8. Знаешь ли ты другие сказки, в чем-то близкие по сюжету, замыслу и характеру главного героя?
ПЛАН АНАЛИЗА БАСНИ
1. Прочитай произведение. Подумай, почему оно считается басней.
2. Попробуй передать мораль (основную мысль) басни своими словами.
3. Обрати внимание на то, как написана басня - прозой или стихами. Найди рифмы.
4. Какие недостатки, встречающиеся у людей, высмеиваются в этой басне?
5. Какие фразы, выражения показались тебе наиболее яркими, образными, запоминающимися?
6. Перечисли основные черты характера главных героев басни.
7. Подумай, какие пословицы ближе всего к морали этой басни.
8. Что тебе показалось в этой басне смешным, а что - поучительным?
9. Подготовься к выразительному чтению басни. Прочитай басню по ролям.
10. Какие выражения из этой басни обогатили русский язык, украсили нашу речь?
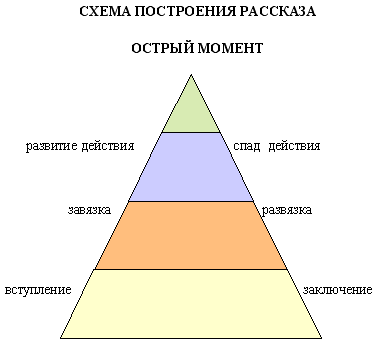
- С чего начинается история? (завязка)
- Как продолжается история? (развитие действия)
- Какой самый острый момент? (кульминация)
- Как разрешается конфликт? (развязка)
- Как заканчивается история? (заключение)
ПРИЗНАКИ ТЕКСТА
- Законченность, завершённость, полнота (ничего нельзя убрать, сократить).
- Единство темы, монолитность (воспоминание о родине, случай на рыбалке, встреча Нового года и т.д.).
- Главная мысль, вытекающая из сюжета (т.е. идея текста, то, что хотел сказать автор своим текстом).
- Заголовок (в заголовке очень часто выражены либо тема повествования, либо идея. Заголовок - это "вход" в текст, как в некое здание).
- Связность изложения (по смыслу и грамматически).
- Иногда членение текста на микротемы (абзацы).
- У текста есть автор (тексты различаются авторской стилистикой, почерком, манерой).
